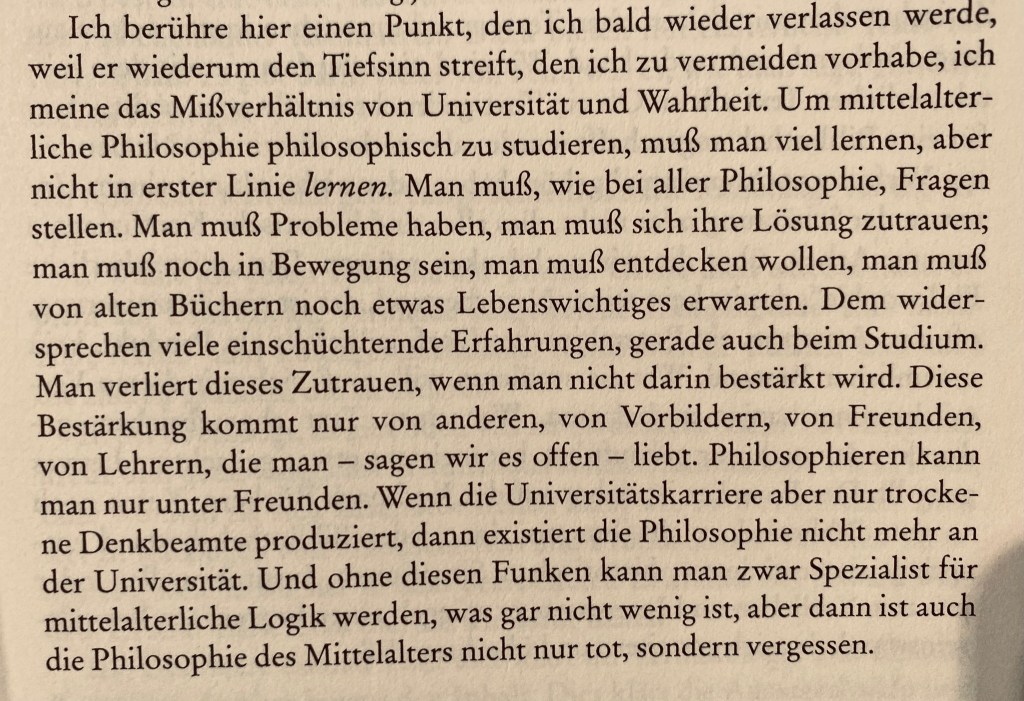Автор: Мартин Ленц (Гронинген)
Перевод: Мария Весте
Читал ли Декарт Витгенштейна? Вам будет приятно услышать, что историки, как и философы, отрицают это. Историки скажут вам, что Декарт—это философ 17-го века, а Витгенштейн—философ 20-го века. Философы согласятся с этим, но поспешат добавить, что Витгенштейн справедливокритиковал концепцию разума Декарта. Как вы знаете, Декарт утверждал, что все наше знание коренится в интроспекции: то, что я думаю, является абсолютно достоверным, в том, что это касается вас, я не уверен. Витгенштейн атаковал эту идею, утверждая, что интроспекция или взгляд внутрь себя не может дать знания, поскольку знание и мышление основаны на социальномвзаимодействии. Так что и историки, и философы скажут вам, что Декарт не читал Витгенштейна.
Однако при ближайшем рассмотрении видно, что они отрицают связь между этими авторами по противоположным причинам. Историк отрицает ее, утверждая, что не следует пытаться понять более раннего автора, например Декарта, через более позднего автора. Таким образом, историк выступает против анахронизма. Философка, напротив, отрицает эту связь потому что она читает анахронистически, а значит, читает Декарта глазами более позднего автора, то есть через Витгенштейна. Таким образом, мы имеем методологическое противоречие. Так стоит или не стоит смотреть на Декарта витгенштейнскими глазами?
В моем понимании, мы должны читать исторические работы, ориентируясь на современные темы, привнося историю философии в актуальные проблемы, и наоборот. В конце концов, читая старые тексты, мы всегда привносим в них свои предположения. И дело не в том, чтобы отмахнуться от анахроничных предположений или опровергнуть их, а в том, чтобы сделать их как можно более явными.1 Как бы интересно это ни звучало, но с учетом того, что я только что сказал, это представляется несколько безнадежной затеей. Если эти ходы противоречат друг другу, то они покажутся взаимоисключающими. В методологических дискуссиях об истории философии это противоречие часто обозначается, маркируя два различных подхода: рациональная реконструкция и историческая реконструкция. Если первый подход ориентирован на оценку аргументов по современным стандартам, то второй, как представляется, стремится быть верным исторически значимым стандартам. Приняв очевидное противоречие между этими стандартами как решающее, можно сделать вывод, что только один подход ведет к правильному пониманию. В этом духе Кристиа Мерсер недавно заявила, что противоречия теперь разрешены в пользу исторической реконструктивизации или контекстуализации.2 Однако даже если бы эти направления противоречили друг другу, это не означает, что следует придерживаться только одного из них. Как я надеюсь показать, есть веские причины для того, чтобы принять кажущиеся противоречия и сделать выбор в пользу плюрализма подходов. Как мне кажется, внимание к соотношению современной философии, с одной стороны, и отдаленных исторических периодов, с другой, не только интересно, но и методологически необходимо. Почему? Ну, если мы заинтересованы в понимании концепций, таких как, например, концепция разума, нам необходимо корректировать предубеждения и смещения друг у друга, а это означает, в том числе, и выявить противоречия.
Далее я проиллюстрирую это, объединив два отрицательных ответа на исходный вопрос и сформировав положительный, синтетический ответ: Да, Декарт действительно читал Витгенштейна. По крайней мере, Декарт в моем сознании, и наверняка в вашем тоже. Потому что если кто-то, прочитав Витгенштейна, прочтет Декарта, то это приведет к диалогу двух авторов. Моя цель при этом не состоит в том, чтобы представить новую интерпретацию Декарта или Витгенштейна. Многое из того, что я говорю, будет обращаться к уже ставшим стандартными прочтениям. Более того, в моих иллюстрациях эти авторы рассматриваются как взаимозаменяемые с другими образчиками. Поэтому вместо поиска дополнений к существующим интерпретациям, я хочу рассмотреть правомерность сочетания различных и, возможно, даже несопоставимых подходов к философии и ее истории.
Таким образом, защищая синтетический ответ на поставленный выше вопрос, я покажу, что историки и философы нуждаются друг в друге. Но дело не только в том, что сотрудничество—это приятная вещь, но и в том, что и философам, и историкам необходимо понимать концепции, с которыми они имеют дело, а понимание—это в равной степени философское и историческое стремление.
I. ПОНИМАНИЕ ПОНЯТИЙ
Что значит понимать понятие? – Как историка философии меня в первую очередь интересует, за счет чего происходит развитие понятий, идей или идеологий. Конечно, есть и другие единицы—например, аргументы, дебаты, судьба текстов или событий, – которые мы можем изучать. Но понятие, такое как понятие разума, языка, любви или свободы, а также определенные идеи или даже идеологии, связанные с ними, составляют устойчивый репертуар в философии. В то же время такие философские понятия и идеи очень изменчивы.33 Как мне кажется, концепции и другие формы идей распространяются и закрепляются в нашем сознании с течением времени. Точно так же они могут быть забыты и снова исчезнуть или быть заменены более модными. Таким образом, понимание понятий или идей не сводится только к вопросу о том, являются ли связанные с ними утверждения истинными или непротиворечивыми; оно также требует рассмотрения условий, при которых они появляются или исчезают. Понимание понятий или идей, таким образом, требует не только определения некоторых необходимых и достаточных условий, но и исторических условий, которые делают их привлекательными.
Это можно сравнить с картой города. Конечно, если вы хотите просто проехать, то, возможно, достаточно иметь карту нынешней планировки Гронингена. Так вы будете знать, где находится вокзал, университет и т.д. Но для того чтобы понять, как устроен город или как формировать его будущее, необходимо знать различные исторические этапы. Почему, например, люди принимали те или иные решения по архитектуре, или по строительству той или иной дороги? Почему люди придерживаются тех или иных очертаний города, почему многие протестуют против введения новой трамвайной линии?
То же самое относится и к пониманию понятий, идей и идеологий. Если вы хотите просто использовать слово, то, казалось бы, достаточно знать его современное употребление. Но если вы хотите разобраться в конфликтах, которые окружают наши слова и идеи, вам потребуется дополнительный путеводитель. Но теперь философы спрашивают, почему мы вообще должны заниматься историческими значениями, если мы хотим просто участвовать в текущих дискуссиях. Однако те факторы, которые делают идеи привлекательными для нас сейчас, в большинстве случаев уже были установлены до нашего появления. Можно утверждать, что в основном мы работаем с набором идей или идеологий прошлого, а не с тем, что мы придумали бы или даже могли бы придумать. Поэтому для понимания собственных концепций нам необходима концептуальная география, отображающая прошлые и настоящие территории и климатические условия, в которых одни идеи развиваются, а другие пропадают. Как я сейчас предположу, для этого необходимо взаимодействие историков и философов, а значит, и их противоречивых на первый взгляд подходов. Поэтому сейчас я вернусь к вопросу о том, читал ли Декарт Витгенштейна, и расскажу о трех возможных вариантах ответа.
II. ПЕРСПЕКТИВА ИСТОРИКОВ
На протяжении многих лет меня особенно интересовала история понятия “разум”. Даже если внутри и вне исторического и современного канона есть много интересного, тем не менее весьма плодотворным оказывается пристальный взгляд на Декарта и Витгенштейна. Какие предположения делают они и другие авторы, когда говорят, что у человека есть разум? Особенно интересным и актуальным представляется картографирование географии этого понятия. Почему? В последние годы мы стали свидетелями, пожалуй, кардинальных изменений даже в общественном понимании этого понятия. На протяжении тысячелетий понятие “разум” относилось только к человеку, но теперь мы задаемся вопросом, следует ли приписывать разум другим животным и, возможно, даже охватить этим понятием растения и машины.44 Подобные применение понятий требует определенного исторического климата, и я лично приветствую тот факт, что мы все чаще обсуждаем мышление нечеловеческих животных. Но в то же время очень важно понимать, что мы не можем менять концепции по своему усмотрению. Мы должны не упускать из виду то, на чем мы стоим. Понятия могут быть более или менее адекватными, границы концепций меняются исторически, а это значит: в соответствии с политическими модами.
Думаем ли мы о разуме скорее как Декарт или как Виттгенштейн? Готовы ли мы в меньшей степени связывать мышление с интроспекцией индивидов и в большей—с определенными типами поведения? Здесь, например, очень важно глубокое понимание нашего картезианского и витгенштейновского наследия. Но прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо разобраться, что подразумевается под этими понятиями. Являются ли они взаимоисключающими?
Итак, вернемся к вопросу о том, читал ли Декарт Витгенштейна! Первый ответ, который я хотел бы назвать “перспективой истории”. В каком-то смысле это самый естественный ответ—твердое “нет”, отмахивание от вопроса как от глупости, как от чистой формы анахронизма. Конечно, когда знаешь необходимые даты, искренне задавать этот вопрос уже нельзя, а может можно?
А почему бы и нет? Простой ответ заключается в том, что историки должны избегать анахронизмов и описывать то, что писали или имели в виду философы прошлого, так, чтобы это соответствовало их собственным стандартам.55 Это означает, что мы можем объяснить их работу в силу более ранних, но, конечно, не более поздних философов. Тезис состоит в том, что чтение Витгенштейна ничего не скажет нам о Декарте. Если воспользоваться нашей географической аналогией, то историки имеют верную карту концепции разума в 17-ом веке, поскольку не вставляют в нее места, которых там нет. Вот что значит избегать анахронизмов.
На первый взгляд, это чистый здравый смысл. Конечно, Декарт не читал Витгенштейна. Но означает ли это, что чтение Витгенштейна ничего не может сказать нам о Декарте? Позвольте мне рассмотреть два возражения против этого утверждения историков. Во-первых, в этом ответе игнорируется тот факт, что философы и другие авторы часто пишут для будущих поколений. Декарт, Спиноза, а также Кант, Ницше и другие писали явно для будущей аудитории. Объяснение их текстов только ссылкой на свое время обедняет их философский потенциал. По сути, это обобщение: любой исследовательский проект ориентирован на будущее. Мы не стали бы заниматься исследованиями, если бы не надеялись, что в будущем они приведут к большим знаниям. Если мы изучаем развитие идей, то крайне важно обратить внимание на их потенциальное будущее, а оно вполне может включать в себя реакцию Витгенштейна на картезианскую концепцию разума.6
Однако, отрезая прошлое от настоящего и будущего, историки в своем обвинении в анахронизме закладывают более глубокую проблему. Они претендуют на то, что мы можем смотреть на текст из прошлого, игнорируя свои собственные убеждения. Другими словами, предполагается, что мы можем понять смысл предложений, не принимая их за истинные или ложные. Я считаю, что это невозможный сценарий.Приведу простой пример: Если бы я сейчас утверждал, что “нынешний читатель этого текста—птица”, то вы бы сразу же убедились в ложности этого предложения. Дело в том, что: вы не смогли бы понять это предложение, не признав его ложность. Это означает, что вы не можете понять смысл предложения, не зная, что должно быть, чтобы оно было истинным.7
То же самое можно сказать и о чтении исторического текста. Если вы считаете, что Витгенштейн прав, то, по-видимому, вы не можете читать Декарта, не считая, что он не прав. Поэтому предположение историка о том, что к Декарту можно подойти без Витгенштейна, является иллюзией. Вообще говоря, чтение прошлых текстов только с точки зрения их собственного временного контекста – это иллюзия, она превращает прошлое в оторванную точку, никак не связанную с настоящим. Таким образом, настойчивое стремление историка избежать анахронизма неосуществимо, поскольку сами акты письма и чтения являются анахронистическими занятиями.
III. ОТВЕТ ВТОРОЙ: ПЕРСПЕКТИВА ФИЛОСОФОВ
Так читал ли Декарт Витгенштейна? Ответ философа состоит из двух частей: “Нет, не читал. Но должен был”. Почему? Ну, Декарт, очевидно, предполагал, что знание основано на интроспективных актах индивидуального человеческого разума. Если бы Декарт читал Витгенштейна, он бы увидел, что эта идея порождает огромную проблему. Почему? Знание предполагает возможность ошибиться. Но различение правильного и неправильного требует социального взаимодействия. Понять что-то неправильно—значит отклониться от социальных правил. Без других, которые могут меня поправить, говорить об ошибках бессмысленно. – Возможно, что в этом случае возражения против Декарта проходит через работы Витгенштейна, Райла, вплоть до таких авторов, как Дэвидсон и психолог Майкл Томаселло. Суть возражения такова: Декарт и другие мыслители раннего Нового времени, такие как Спиноза, Локк и Юм, просто неверно понимают, что такое разум, игнорируя его социальное измерение. Таким образом, понятие мышления Нового времени непоследовательно и не соответствует концепциям разума 20-го и 21-го веков.8 С точки зрения нашей географической аналогии, современный философ имеет лучшую карту понятия разума, поскольку это современная карта со всеми новейшими достижениями.
Однако и с этим подходом у философа есть серьезные проблемы. Отказ от картезианской идеи разума как неполноценной основывается на предположении, что мы имеем лучшее представление о разуме, чем Декарт. Это проблематично по двум причинам. Во-первых, оно принимает каноническое понимание картезианской идеи разума как данности, а прошлое—как нечто уже известное. Вместо того чтобы искать ответ на возражение, он просто отвергает идею Декарта. Почему мы предполагаем, что знаем о Декарте достаточно? Тот факт, что мы его критикуем, конечно, может означать, что он придерживался плохих взглядов. Но это не исключает возможности того, что мы просто не очень хорошо понимаем его взгляды.9 Во-вторых, при этом философ игнорирует тот факт, что современное представление о разуме как о социально обоснованном—это тоже исторически сложившаяся идея. Поэтому если историк изолирует прошлое, то философ рискует оторвать настоящее (и современные стандарты обоснованности и рациональности) от прошлого, рассматривая свои собственные стандарты как чудесным образом освобожденные от исторических условий и ограничений. Но это иллюзия.Тот факт, что философ в настоящее время поддерживает определенное понятие разума, не делает это понятие eo ipso лучше, чем исторические альтернативы, которые были исключены.10
Сейчас тот, кто видит в философии связь с наукой или техникой, может возразить, что такой прогресс отражается и в философии. Соответственно, можно сказать, что философские теории со временем прогрессируют и совершенствуются. Конечно, мы сами замечаем такой прогресс в своем мышлении. Например, мы можем дать определение какому-либо термину, а затем уточнить его, включив в него новые для нас мысли и идеи. Нечто подобное можно сказать и о крупных проектах, рассчитанных на многие годы. Однако понятие прогресса предполагает зафиксированность проекта. Ведь прогресс—это телеологическое понятие, требующее цели, которая должна быть общей для собеседников. Однако, если цели философского исследования смещаются или изменяются, то говорить о прогрессе становится проблематично или даже нецелесообразно. В этом смысле можно сказать, что более поздние философы не обязательно улучшили понимание того или иного понятия, но скорее изменили тему или, по крайней мере, фокус. Например, одно дело—задавать вопрос о понятии разума применительно к предполагаемому божественному разуму. И совсем другое дело, когда речь идет о понятии разума применительно к человеческому поведению. Хотя между этими подходами может быть интересное пересечение, трудно сказать, что они являются частью одного и того же проекта, так что одно понятие может рассматриваться как прямое улучшение другого и, следовательно, “лучше” первого.
Поэтому философ должен задаться следующим вопросом: Что именно делает мысль Витгенштейна столь привлекательной? Я думаю, что один из важнейших ответов заключается в том, что Витгенштейн переносит внимание с понимания разума как чего-то, что репрезентирует объекты, на то, что встроено в социальное поведение. Соответственно, возникает новая концепция правильности, которая не укоренена в репрезентации. Вместо этого Витгенштейн рассматривает правильность как нечто, управляемое соответствием не репрезентируемым фактам, а социальным правилам поведения.
Итак, пока кажется, что Витгенштейн и витгенштейнианцы далеки от концепции разума Декарта. Но что было бы, если бы Декарт действительно прочитал Витгенштейна? Я думаю, что Декарт воскликнул бы, что он согласен с Витгенштейном в некоторых принципиальных моментах. Поэтому перейдем к синтетическому подходу.
IV. ТРЕТИЙ ОТВЕТ: СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Надеюсь, стало ясно, что обе перспективы, и историческая, и философская, начинающие с правдоподобными предпосылками, оказываются шаткими, их слабые места, которые оба подхо сомнительными. Однако есть и хорошая новость: при совместном рассмотрении философия и история обладают инструментами, позволяющими уравновесить предвзятость друг друга. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим синтетический ответ: “Да, Декарт читал Витгенштейна—в той мере, в какой Декарта рассматривает тот, кто читал Витгенштейна”. Если предположить, что вы знакомы с трудами Витгенштейна, то Декарт в вашем представлении—это тот, кто читал Витгенштейна. Вы, конечно, можете возразить, что это дешевая игра на совмещении противоположных точек зрения. Но сейчас я должен попросить вас внимательно рассмотреть этот вопрос. Так что же особенного в синтетическом ответе? Главное, пожалуй, заключается в том, что наше прочтение текста никогда не исчерпывается концентрацией нашего внимания на этом конкретном тексте. Скорее, мы вовлечены во взаимодействие, происходящее между текстами. По сути, это не что иное, как явление, известное как интертекстуальность, т.е. тот факт, что тексты и наше понимание их всегда связаны с другими текстами.11
Вы не просыпаетесь утром и не думаете: “Я думаю, следовательно, я есть”. Речевые акты и, соответственно, тексты следует рассматривать как реакцию на другие тексты, которые, в свою очередь, ведут к следующим текстам. Соответственно, тексты вплетены друг в друга, даже если это не выражено в прямых цитатах. Утверждение отвечает на вопрос, даже если этот вопрос остается неявным в тексте, в котором содержится ответ. Однако как читатели мы часто читаем тексты в ответ на наши собственные вопросы и неизбежно на основании наших, в основном, молчаливых предположений. В этом смысле “чтение—это диалогический акт”, с самого начала устанавливающий отношения между текстами и порождающий в нашем сознании новые ответы.12 В этом смысле тексты всегда обращены и к будущей аудитории. Таким образом, понимание текста будущей аудиторией, которая приходит с новыми предположениями и вопросами, не должно, по крайней мере, в принципе, рассматриваться как анахроническое искажение.
Интертекстуальные особенности могут рассматриваться как с точки зрения пишущего, так и с точки зрения читающего. С точки зрения пишущего, будущее прочтение, выходящее за рамки того, что утверждается в тексте, может быть даже предполагаемым свойством некоторых жанров. Научная статья может открыть дальнейшее обсуждение и даже может быть написана с расчетом на то, что будущие выводы будут доведены до сведения читателей и позволят им подтвердить или опровергнуть их. В повседневном общении мы тоже замечаем это явление, когда на наши попытки сформулировать связную мысль мы получаем более лаконичный пересказ и восклицаем, что именно это мы “хотели сказать”. С точки зрения читающего, разумно признать, что мы не можем просто взять в скобки свои собственные предположения. Если наше прочтение Декарта построено на предположениях, навеянных витгенштейновскими и другими более поздними идеями, то не имеет смысла делать вид, что их нет. Напротив, мы должны сделать эти предпосылки как можно более явными, чтобы вступить в подлинный диалог с текстом. Например, если мы обнаруживаем, что не понимаем или не согласны, то наша реакция не должна заключаться в том, чтобы сказать, что мы не должны выдвигать анахроничных требований. Скорее, мы можем обратиться к самим себе и спросить (с учетом текста), почему мы не согласны. Таким образом, текст проливает свет на наши собственные ожидания и предположения. Опять же, в повседневном общении мы замечаем такие ожидания тогда, когда понимаем, что ожидали, скажем, другого вывода и что “мы не ожидали так поворота”. Таким образом, мы подходим к позиции, с которой мы могли бы сказать, почему тот или иной вывод удивляет нас, но он вытекает из авторского текста. В этом смысле текст не просто дает нам повод для несогласия, но и подсказывает, какими негласными ожиданиями мы руководствуемся при чтении. Конечно, этот интерактивный процесс гораздо сложнее. Этим я пытаюсь показать, что диалогический подход объединяет историческую и философскую перспективы, не рассматривая их как противоположности. Напротив, интертекстуальность требует совместного подхода. Таким образом, как мне кажется, выбор между исторической и рациональной реконструкцией—это не решение в пользу одной из них как “или-или”, а решение касающееся фокуса внимания. Как таковая, ни одна из них не является преимущественной, поскольку они требуют друг друга и зависят друг от друга.
Если это так, то это означает, что мы не должны искать “правильный” подход к текстам в истории философии. Исторический контекстуализация или рациональная реконструкция уделяют внимание разным аспектам диалогического взаимодействия с текстом. Если философы игнорируют контексты, считая их несущественными, они упускают из виду, что их собственные суждения о релевантности столь же условны и спорны, как и ими же забытые тексты. Если сторонники исторической контекстуализации упрекают философов в игнорировании контекстов, то они упускают из виду, что важнейшей целью философского чтения является понимание не только исторического источника, но и собственных рассуждений при столкновении с кажущимися странными текстами. Однако контекстуализация исторических источников также неверно понята, если она главным образом истолковывается как подчинение “правильному пониманию истории”.13 При этом важно видеть, что смещение фокуса внимания касается не только методологического подхода к текстам, но и цели обращения к ним. Если взаимодействие диалогическое, то это означает, что целью является не только изучение исторических текстов или обогащение канона, но и изучение наших представлений и суждений. Историческое чтение предполагает встречу умов, а не просто изучение умов прошлого. Таким образом, когда цель переносится с понимания прошлых других на себя нынешних, оправданно, что подход ставит во главу угла рациональную, а не на историческую реконструкцию.
V. ДИАЛОГИЧЕСКОЕ (ПРО)ЧТЕНИЕ ДЕКАРТА И ВИТТГЕНШТЕЙНА
Ключевым аспектом диалогического чтения является то, что оно не нацелено на текст как на просто единичный отдаленный исторический объект. Напротив, оно взаимодействует с историческим текстом таким образом, который позволяет ориентироваться как на предположения и установки читателя, так и на изучаемый текст и связанные с ним тексты. В этом отношении следует ожидать смещения фокуса чтения. Таким образом, речь идет не только (1) о концепции разума у Декарта, но и (2) о нашей реакции на эту концепцию и (3) о наших (возможно) витгенштейнианских предположениях, которыми мы руководствуемся в своей реакции. К этим моментам вполне можно подойти с позиций того, что мы часто называем стандартным прочтением, а затем увеличить масштаб критических точек соприкосновения в данных текстах. В предыдущих разделах я попытался предложить наброски таких стандартных прочтений Декарта и Витгенштейна, не вдаваясь в текстуальное обсуждение. Но и в таком виде эти моменты могут показаться достаточно статичными, даже если предоставить больше текстуальных обсуждений. Однако, как мне кажется, эти шаги следует рассматривать лишь как отправные точки. В дополнение к этим шагам возникает вопрос о том, что мы можем узнать из таких диалогических столкновений о (4) концепции разума Декарта и о (5) наших витгенштейнианских предположениях. В конце концов, так называемые стандартные прочтения являются хорошей отправной точкой, но они не должны заслонять того факта, что большая часть нашей истории (и наших негласных предположений) осталась неизвестной и ее еще предстоит сделать явной.
В свете этих более общих замечаний я хотел бы высказать несколько кратких предложений по пунктам (4) и (5). Прежде всего, я хотел бы обобщить два вывода, которые следуют из синтетического подхода к прочтению Декарта и Витгенштейна.
– Как многие до и после него, Декарт писал для будущих поколений. Как общеизвестно, Декарт очень хотел, чтобы его знаменитые “Медитации” были опубликованы с возражениями и ответами.14Обращение Витгенштейна к этому тексту можно рассматривать как еще одно возможное возражение против картезианской концепции разума. Даже если не соглашаться с подходом Витгенштейна к картезианской традиции, нет никаких принципиальных причин исключать работы Витгенштейна или вообще кого бы то ни было из списка легитимных ответов Декарту. Соответственно, обвинение в анахронизме неверно истолковывает даже дух, в котором были опубликованы “Медитации“.
– Противопоставив Декарта Витгенштейну, мы можем узнать кое-что и о нашем витгенштейнианском наследии, которое до сих пор определяет современные тенденции анти-индивидуализма. Однако такое анти-индивидуалистическое понимание философии Декарта связано не с текстами Декарта, а, вероятно, главным образом с хрестоматийными исследованиями 19-го и начала 20-го века. Возможно, не Декарт, а Витгенштейн и другие авторы 20-го века одержимы идеей индивидуализма. Как мне кажется, такой способ прочтения Декарта в значительной степени обусловлен нашими установками. Это не отменяет такого прочтения, но, вероятно, можно показать, что оно в большей степени обусловлено упором на наши собственные заботы или опасения 20-го века, чем на тех, которые лежат в основе рассуждений Декарта.15
Из этих соображений историки философии часто стремятся “исправить протокол”, выставляя то или иное прочтение анахроничным. Как я уже отмечал, гораздо интереснее было бы взглянуть на анахронические предположения как на вложения в диалог. Поэтому я хотел бы предложить, что так мы можем узнать что-то новое о наших собственных интерпретационных предположениях. Если мы не будем сводить наши интересы к размышлениям о том, какое прочтение менее анахронично, мы сможем открыто обозначить различные тексты или аспекты, которые определяют наше понимание. Вместо того чтобы спрашивать, чье прочтение правильнее, мы можем спросить, как Декарт мог или, скорее всего, ответил бы на обвинения Витгенштейна. Важно отметить, что мы не должны принимать любое стандартное прочтение как данность. Более того, мы даже не должны считать, что нам уже слишком хорошо известна позиция Декарта. Простое утверждение, что концепция разума Декарта является или не является индивидуалистической лишает нас возможности вообразить, что мог бы сказать Декарт, столкнувшись с обвинением в индивидуализме.
Что же мог ответить Декарт? Хотя здесь не место для исчерпывающего обсуждения, можно высказать несколько предположений. Декарт мог бы сказать, что его концепция разума действительно имеет социальное измерение. Хотя об этом уже говорилось ранее,16 до сих пор часто игнорируется тот факт, что Декарт не исходит из индивидуалистического понимания разума. Скорее можно полагать, что его концепция разума является социальной в двух смыслах. Во-первых, в том смысле, что он начинает “Медитации” с сомнения во всех предрассудках, с которыми нас воспитывают. Если Декарт считает, что нам необходимо освободиться от популярных верований, то его предположение должно состоять в том, что нормальное состояние нашего разума состоит в том, что он заселен чужими верованиями, будь то в результате нашего воспитания или какого-то более целенаправленного образования. Однако существует и второе социальное измерение, которое не сразу бросается в глаза. Как известно, Декарт мыслит человеческий разум всегда в связи с разумом Бога. Как и во многих средневековых концепциях, разум в понимании эпохи раннего Нового времени является социальным в том смысле, что он рассматривается в связи с Богом. Более того, именно отношение к Богу определяет истинность и ложность наших идей. Согласно пониманию Декарта, Бог дает истинность нашим идеям, и именно отклонение от божественной воли и стандартов является нашим заблуждением.17 В каком смысле это является социальным представлением о разуме? Декарт утверждает, что ошибка возникает не из-за неправильного представления о предмете как таковом. Скорее, я могу ошибаться потому, что моя воля простирается дальше, чем мой интеллект. Поэтому моя воля может распространяться на неизвестное, отклоняясь от истинного и хорошего. И таким образом, можно сказать, что я ошибаюсь и грешу. Объединяя ошибку и грех, Декарт апеллирует к давней традиции, согласно которой ошибка относится к уровню произвольных суждений и действий. Соответственно, не существует резкого различия между моральными и эпистемическими ошибками. Я могу ошибаться в действиях или ошибаться в мыслях. Источник моей ошибки, таким образом, не в том, что я неправильно представляю объекты, а в том, что я отклоняюсь от пути, предписанного Богом. Именно таким образом могут ошибаться даже совершенные когнитивные агенты, такие как падшие ангелы и демоны. Итак, в первом приближении наш разум можно считать социальным в том смысле, что истинность наших представлений—это не просто свойство, обусловленное связью между разумом, формирующим представление, и объектом, а скорее, требующее связи с авторитетным существом – Богом. Возможно, что именно отношение нашего разума к другому разуму—разуму Бога—дает истину. Таким образом, решающим является отношение между разумами, а не между разумом и объектом. Однако в рассуждениях Декарта об ошибках есть и интригующая точка соприкосновения с Витгенштейном, которая может стать явной только тогда, когда мы анахронически прочтем Декарта, имея в виду позднего Витгенштейна.
Итак, я предлагаю следующее: концепция разума Декарта не только является социальной в том смысле, который был описан выше. Скорее, предположения Витгенштейна о социальном разуме можно рассматривать как вдохновленные традицией, объединяющей как Декарта, так и Витгенштейна в понимании ошибки. Вероятно, оба они придерживаются волюнтаристского понимания ошибки. Разрешите объяснить.
Начнем с того, что предложим параллельный вариант формулировки понятия ошибки у Декарта и Виттгенштейна: Согласно Декарту, ошибка коренится в отклонении от божественных норм. По Витгенштейну, ошибка коренится в отклонении от социальных норм.18
Для рассматриваемого вопроса важно то, что Бог представляется нам как некий стандарт, которому мы можем соответствовать или от которого можем отклоняться при репрезентации объектов. Таким образом, ошибка объясняется через отклонение от божественного стандарта, а не через репрезентативную модель. Конечно, можно возразить, что божественные стандарты далеки от социальных стандартов и лингвистических правил. Но Витгенштейна могли вдохновить следующие три момента: определение ментальных актов как одного из видов действия, объяснение ошибки и правильности через нерепрезентативный стандарт и неиндивидуалистический подход к стандарту, поскольку именно отношение людей к Богу налагает на нас нормы. В этом смысле ошибка не может быть приписана отдельному индивиду, неверно представляющему объект; она должна быть связана с разумом, который соотносится с нормами, установленными Богом.
Если принять это историческое сравнение хотя бы в качестве предположения, то можно сказать, что божественные нормы играют у Декарта теоретическую роль, аналогичную социальной практике у Витгенштейна. Чтобы увидеть это, полезно вернуться к различию между теологическими интеллектуалами и волюнтаристами. Теологические интеллектуалисты исходят из того, что божественные нормы могут быть обоснованы ссылкой на более фундаментальную норму, например, Бог желает добра, потому что оно хорошо. Теологические волюнтаристы, напротив, полагают, что нечто является хорошим именно потому, что Бог желает этого, а не потому, что существует некий дополнительный стандарт добра. Витгенштейн, по-видимому, следует этой волюнтаристской идее, говоря следующее: “Следование правилу сходно с подчинением приказу.” (ФИ 206)
Как же Витгенштейн видит это традиционное теологическое различие? Учитывая его многочисленные рассуждения о воле даже в ранних работах, становится ясно, что его творчество было пронизано подобными соображениями. Наиболее ярким является его замечание о волевом унтаризме, приведенное в “Заметках о беседах с Витгенштейном” Вайсмана (1956): “Я думаю, что первая концепция является более глубокой: Добро—это то, что определяет Бог. Ибо это отрезает путь к любому и всякому объяснению “почему” это хорошо…”. Здесь Витгенштейн явно встает на сторону волюнтаристов.19 Действительно, представление о том, что следование правилам—это послушание, можно рассматривать в полном соответствии с утверждением о том, что ошибка состоит в нарушении общей практики, так же как и волюнтаристская традиция, которой следует Декарт считает, что заблуждение—это отклонение от божественных норм. Если эти утверждения направлены в плодотворное русло, то они могут открыть путь к переосмыслению мысли Витгенштейна в контексте долгой традиции волюнтаризма. Возможно, они преуменьшат претензии Витгенштейна на оригинальность, но в то же время сделают более доступными и его работу, и традицию волюнтаризма.
Этим я хотел бы предложить, что диалогическое прочтение открывает необычные, но полезные способы взглянуть на Декарта в диалоге с витгенштейнианскими постулатами. Оно необычно тем, что высвечивает Декарта как сторонника более социального взгляда на разум, а семантику Витгенштейна – как связанную с теологической традицией волюнтаризма. Она поучительна тем, что открывает новые возможности взглянуть на этих авторов, а также на наши собственные интуиции, которые могут быть связаны с идеями волюнтаризма сильнее, чем кажется на первый взгляд. Если акцентировать внимание на вопросе истинности и ложности у Декарта и Витгенштейна, то можно увидеть, что они оба одобряют понимание ошибки как поведенческого отклонения. А это, конечно, крайне важно для концепций разума и понятия ошибки, которые до сих пор лежат в основе наших подходов в философии разума и семантике.
Вероятно, существует, по крайней мере, два различных способа понимания ошибки. Один способ—это модель искажения: если вы смотрите на джин и думаете, что это вода, то вы неверно представляете факты. Другой способ – это модель отклонения от установленных стандартов: если вы смотрите на джин и думаете, что это вода, то ваш разум не может вести себя в соответствии с созданными нормами. То, что может показаться просто пересказом, на самом деле является другой моделью: первая – моделью репрезентации, вторая – моделью действия или поведения. Если принять это различие, то становится ясно, что понимание разума у Витгенштейна опирается на модель, которая старше той модели, на которую опирался Декарт. Возможно, его вдохновило чтение Августина, Декарта, Спинозы или Шопенгауэра, которые используют эту модель в разных обличьях.
Привлекательность этой модели очевидна: рассмотрение ментальных актов как формы девиантного или конформистского поведения позволяет отнести эпистемические ошибки к той же категории, что и моральные. Когда я начал рассматривать авторов в соответствии с этой моделью, я сначала подумал, что просто слишком анахроничен, но затем, перечитав записные книжки Витгенштейна, я понял, что он использует эти идеи открыто. При трактовке девиантного поведения как ошибки эта концепция разума, видимо, идет очень далеко и лежит в основе не только Витгенштейна, но и, например, современных представлений о воплощении и телеологических концепций о ментальном содержании.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Я надеюсь, что стало понятно, что историческая и рациональная реконструкции—это скорее акценты в диалоге, чем конкурирующие подходы. Как мне представляется, синтетический подход может дать новое понимание основ, имеющих важное значение, но оставшихся незамеченными в современных концепциях разума. Наши нынешние идеи не лучше старых, они просто формируются в новых условиях. Но вернемся к методологической точке зрения: открытое противопоставление философских и исторических подходов приводит к новым открытиям, которые могут помочь в понимании концепций; оно уравновешивает те предубеждения, которых придерживается каждая дисциплина в отдельности. Сформулируем это еще раз в терминах нашей географической аналогии: cогласно синтетическому подходу, концептуальный географ имеет обе исторические карты—17-ого и 20-го вв. Теперь и философ, и историк могут возразить, что синтетический подход не различает должным образом эти две карты, а смешивает прошлое и настоящее. На это я отвечу, что разграничение карт—это всего лишь эвристическая точка отсчета, которая начинается с более или менее канонических прочтений. Но мы должны видеть одну карту сквозь другую, и наоборот. Тогда историк философии и философ могут начать учиться друг у друга. Что дает такой обмен мнениями? Пожалуй, только рассматривая разные концептуальные карты, в которых проступают разные детали, можно оценить богатство концептуального ландшафта. И именно здесь мы нужны друг другу. Для синтетических подходов очень важно не путать концептуальные карты и картографируемый ландшафт. Мы должны понимать, что мы всегда являемся лишь частью этого огромного ландшафта, мы перемещаемся по нему и занимаем разные места в старых и новых слоях карт. Учитывая все разговоры о необходимости “новых идей” для решения стоящих перед нами задач, позвольте мне в заключение заметить, что не всегда нужны новые идеи; иногда нам просто нужны люди, которые понимают идеи.
ССЫЛКИ
Adamson, Peter 2016. All 20 Rules for History of Philosophy. URL https://historyofphilosophy.net/all-20-rules-history-philosophy. Accessed: 27 February 2022.
Ariew, Roger 2015. Objections and Replies. In Lawrence Nolan (ed.) The Cambridge Descartes Lexicon. Cambridge, Cambridge university Press.
Avramides, Anita 2000. Other Minds. London – New York, Routledge.
Bloor, David 2002. Wittgenstein, Rules and Institutions. London, Routledge.
Burge, Tyler 2007. Foundations of Mind. Oxford, Oxford University Press.
Calvo, Paco – Fred Keijzer 2009. Cognition in Plants. In František Baluška (ed.) Plant Environment Interactions: Signaling and Communication in Plants. Berlin, Springer. 247–266.
Corneanu, Sorana 2011. Regimens of Mind. Chicago, university of Chicago Press.
Francks, Richard 2008. Descartes’ Meditations: A Reader’s Guide. London, Continuum. Franklin, Stanley 1995. Artificial Minds. Cambridge/MA, MIT Press.
Kemp, Gary 2012. Quine versus Davidson. Truth, Reference, and Meaning. Oxford, Oxford University Press.
Klein, Julie 2013. Philosophizing Historically/Historicizing Philosophy. In Mogens Lærke – Justin E. H. Smith – Eric Schliesser (eds.) Philosophy and Its History: Aims and Methods in the Study of Early Modern Philosophy. Oxford, Oxford University Press.
1Это переработанная версия моей инаугурационной лекции в Гронингенском университете в 2017 году. Я благодарен Оливеру Тоту за его проницательные комментарии к последнему варианту. – См. об отношении между философским или апроприационистским подходом как противопоставлению историческому или контекстуалистскому подходу в Laerke, Schliesser и Smith 2013.
2См. Мерсер 2019, а также Вайнберг 2019, где представлены оригинальные ответы Чарли Хунемана, Эрика Шлиссера и мои.
3Ad hoc, я принимаю понятие как более базовую единицу, связанную со словами, выражающими его. Я часто использую “понятие” и “концепция” как взаимозаменяемые с “идеей”. В некоторых контекстах под “идеями” я подразумеваю концепции как фигурирующие в конкретных утверждениях, то есть несколько более крупные единицы, такие как набор убеждений, выраженных (наборами) предложений. Таким образом, можно провести различие между “концепцией разума” и “витгенштейновской идеей (или концепцией) разума”. Хотя я не придерживаюсь здесь технического понимания понятия “идея”, я нахожу многое из того, что я думаю, созвучным и, более того, выраженным гораздо лучше, чем я мог это сделать в Келоз (Queloz 2021. гл. 1). В отличие от этого, “идеологии” являются более всепроникающий единицами, включающими в себя целые системы идей, убеждений и установок. Самое главное, что я не воспринимаю слово “идеология” как в любом случае уничижительное, поскольку не считаю, что существует неидеологическое состояние мышления или дискуссии. В острой необходимости я бы согласовал свое понимание идеологий с пониманием сформулированным у Смита (Smith 2021. 158-177).
4См. о разуме животных Millikan 2004, о познании растений Calvo и Keijzer 2009, а также об искусственном разуме Franklin 1995.
5Обвинение в анахронизме встречается очень часто, но крайне редко обсуждается подробно. См. критическое обсуждение в Rorty 1984 и Adamson 2016.
6Здесь я в основном опираюсь на то, что Шлиссер называет “философским пророчеством” (Schliesser 2013).
7В этом отношении я вслед за Дэвидсоном утверждаю, что смысл устанавливается в силу того, что мы считаем истинным, а не наоборот. См. о семантике Дэвидсона (Kemp 2012. 65-86).
8Подобная карикатура на возражения против концепции разума Нового времени наиболее ярко развита у Райла. См. обсуждение Lenz 2022. 1-29.
9Так называемый дуализм Декарта стандартно используется и преподается как противопоставление современным представлениям о разуме. Таким образом, искажается целый ряд важных принципов. См. например, Francks 2008. 9-74.
10Подобное предположение опирается на широко оспариваемую идею о том, что более поздние по времени этапы совпадают с прогрессом в этой дисциплине. См., например, Lenz 2019, где обсуждается недавняя книга Скотта Соамса.
11См. об интертекстуальности Margolis 1995. гл. 5.
12Я заимствую эту подходящую фразу у Клейна 2013 с. 156.
13В этом отношении я не согласен с Мерсером 2019, который, вместо того чтобы сформулировать цели исторического исследования, предлагает руководствоваться в исторических исследованиях ограничивающим принципом “сделать все правильно”.
14См. Ariew 2015.
15См. более подробную дискуссию у Lenz 2022, гл. 1, и Avradimec 2000.
16См. Burge 2007 сс. 420-439.
17См. поучительную дискуссию в Corneanu 2011. 84-90.
18Последующее обсуждение волюнтаризма Витгенштейна во многом основано на Lenz 2017.
19См. Bloor 2002 сс. 126-133, где также обсуждается волюнтаризм Витгенштейна.